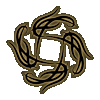| к комментариям | |
Жанр: POV, гет, романтика, драма, ангст, экшн, психология; Я стремилась уловить человечность. Поведать Вам историю моей Хоук, немного выходящую за рамки привычного содержания. Она всего лишь девушка, которая попала в сложную, почти неразрешимую ситуацию. Одна против мира. Или все-таки не одна?.. Предупреждение: насилие, нецензурная лексика, смерть персонажа. | |
|
| |
Оглавление (показать/скрыть) | |
«Старинная деревенская поговорка гласит, что веретенка пышнее всего растет для тех, кого постигло горе. Покрытую листьями веретенку часто приносят в сад соседи, дабы утешить хозяина дома, обычно даже не спрашивая при этом, что случилось…» ― Выдержка из «Руководства по ботанике»
Карвер
Тишина утра казалась почти бездонной. …Багровые капли крови, которыми он удобрял свою землю. Золото жадно впитывала их, глотала жадно, требовательно, как младенец, прижавшийся к груди матери, проливал молоко, но не понимал, что нужно знать меру. Она впитывала в себя сущность своего родителя — каждой крупице понемножку, по частичке, по капле любви, надежды и веры одного человека, которого хватало на каждую травинку. Лотеринг хранил в себе свои истоки, бережно баюкал в земле и грел своих старых немощных отцов и матерей, тревожась, как бы не замерзли они лютой морозной ночью. И словно не верила, что холодно им больше не будет… Лотеринг просыпался рано, когда матушка-природа стелила над крышами свежую скатерть прохлады, очищенную от пыли вчерашних забот ночным ветром… Год назад в это время отец вставал так же рано и вместе со Скай, которую я всегда подозревал в ненормальном минимализме (спала по два часа в день, ела по одному пирожку и чувствовала себя при этом прекрасно), выходил в поле одновременно с Барлином. Они чувствовали друг друга и ориентировались по зову земли. А сейчас наш дом замер тоскливо, и лишь колосья тревожно суетились под порывистым горьковатым ветерком, слабым и безжизненным, преданно ожидая своего отца и хозяина… Они знали, что папа никогда не опаздывал в поле. Говорил с растениями точно с живыми. Напевал им и целовал в благодарность землю, припадая к ней губами… Весь Лотеринг делал так. Все мы знали, что земля слышит и понимает больше, чем люди. Оттого она и мудрее. То, что на меня были обращены чьи-то взволнованные взгляды за забором, я заметил не сразу. И только когда, словно в трансе, закрыл колодец, мое внимание привлек таинственный красный цвет вдоль забора. Вчера его не было. Мой затуманенный разум окрасил забор медленно стекающей кровью, и, приглядевшись, я с удивлением обнаружил привязанную к деревянным зубьям веретенку. Она была повсюду: на заборе, вдоль забора, на кустарниках смородины. Я неоднократно замечал, что здешние пруды и озера буквально кишели ею, и казалось, что вся веретенка, которая только имелась в округе, перекочевала к нашему дому. Пышные, алые, как кровь, и мокрые листья слабо мерцали в предрассветных сумерках, точно пытались мне что-то сказать… Увы, мой слух был не так тонок и чувствителен, как папин. Я не понимал, что она хочет мне сказать, не мог разобрать. Дойдя в полном недоумении до крыльца, я понял, что все это время был не один. Оглянулся и увидел за забором Барлина, соседа и лучшего друга нашей семьи, а рядом Уллу, в непривычно безрадостном смуглом лице которой я с трудом узнал всегда всем довольную дочь Данала, в чем подозревал влияние отцовских профессиональных навыков и невыветриваемого из их «дома», ставшего общим для всех, запаха. Я невольно вздрогнул, когда понял, что они пришли сюда до того, как я вышел за водой, и были здесь все это время. Мои глаза дернулись влево, и я наткнулся на Сабина и Келси, прижимавшую к себе маленького сына Элдена, глядящего на меня своими огромными глазами с неповторимым, неподдельно искренним детским сочувствием… Веретенка огибала весь забор и осторожно взмахивала длинными листьями, точно крыльями, когда ее трогал ветерок. Мне вдруг почудилась картина, где под темным покровом ночи, выжигаемым первыми лучами медленно выползающего вдали солнца, каждый житель деревни, от самых близких домов до другого конца Лотеринга, минуя первые полчаса своего обычного утра, выходил из дома, чтобы собрать по букету веретенки и поднести к нашему дому. Те, кто стоял сейчас передо мной, были не первыми и, скорее всего, не последними поднявшимися сегодня намного раньше запланированного ради нескольких стеблей, оставленных на нашем заборе в знак безмолвного утешения… Всего лишь растение, а всполошило все чувства. Удивление прошло, и на смену явилась тихая, как утренняя мелодия, благодарность. Они еще сегодня ни разу не садились за стол, толком не успели собраться, судя по растрепанной русой косе Келси, впившейся в меня встревоженным, полным страха и неугасающей надежды взглядом серых, широко распахнутых глаз, и вздыбившимся черным волосам Уллы, почти не дышавшей, но нашли в своем утре время, чтобы уделить его нам. Люди Ферелдена, единые, как один огромный непобедимый человек, как одна дружная семья, как одно солнце, гревшее всю землю, никогда не бросали друг друга и всегда стремились помочь, даже если пострадавший о том никого не просил. Они молча отдавали каждый что было, чтобы облегчить чужое горе, и ничего не просили взамен. Для них не существовало «чужих» проблем, они всегда были общие. И сейчас, собравшись всей деревней задолго до первых бликов солнца, они оголили речку и все ближайшие пруды, чтобы напомнить нам, что они всегда рядом, что бы ни понадобилось, и готовы бросить все силы, чтобы облегчить тяжесть на сердце… Пусть это была символичная забота, пусть в виде веретенки, но на сердце немного потеплело. — Он… в порядке? — то ли спросила, то ли уточнила Келси с призрачной надеждой в голосе, озвучив мысли остальных, и пять одинаковых взглядов устремились в мою сторону в ожидании ответа. Одним верным надломленным движением с прискорбием Барлин сорвал пелену с моих глаз. Цвет кровавый тускнел в увядающей жизни. Ветер, кроткий сегодня, беззвучно запел. Чужие взгляды мягко обнимали меня, пытаясь утешить. Ураганная сила беззвучных ветров, шелестов, голосов превратилась в один изменивший меня лишь единственный миг. Все, что должно было быть сделанным, больше не имело смысла. Время на то, что хотелось исправить, вернуть, в чем хотелось признаться, закончилось. Из всей этой ряби я различал лишь шепот и тишину, наполненную им. Веретенка говорила со мной. Неустанно повторяла лишь одно имя. Смерть уже давно сидела в их доме. Преданно держала его жилистую руку, пока они оставляли его, чтобы набрать воды в колодце и приготовить отвар, над которым мать лихорадочно читала молитвы, перебирая в голове все возможные слова, способные облачиться в исцеляющую магию и влиться в горло отца чудотворным теплом, гоня слабость и уязвимость прочь из его тела. Однажды, когда кто-то из них неосторожно распахнул дверь, смерть протиснулась в дом, и никто не видел, как она осталась там наслаждаться гостеприимством, дожидаясь, пока не придет ее время. Папа умирал. Он болел в последнее время чаще и чаще, боролся и выздоравливал, вставал на ноги и снова заваливался в постель с простудой, но сейчас он, смиренно опустив голову на подушку, понял, что больше не встанет. Мама не желала слушать его исповеди и демонстративно затыкала уши, когда он признавался ей в своих предчувствиях. Малкольм никогда не хворает. Ходит босиком по улице, много плавает, сидит допоздна под звездами, засыпает только при открытом окне, а она лечит его от бесконечных простуд, но Малкольм никогда не заболевает всерьез. Чихает громогласно, кашляет, сморкается, но не лежит в постели дольше суток, в течение которых его приходится силой удерживать под одеялом. Все это было настолько невообразимо, что выбило почву из-под ног и создало ощущение зыбкости. Кто угодно мог слечь так надолго, но только не он. — Ему хуже, — я хотел солгать милосердно, и только веретенка, бережно привязанная к забору, удержала от машинальной лжи людям, которые навсегда в своих календарях отметили этот проклятый день черным цветом. — Но спасибо вам. Спасибо за понимание. …Золотистая мерцающая дымка, оседая росой на пробудившемся золоте, впитывала нежданное никем болезненное предчувствие неизбежного, тяжело выдыхаемого алой листвой задыхавшейся веретенки, и блекла под синей пеленой грозовых туч, превращаясь в безмолвный серебряный дождь где-то под парящими замками небесной обители… Пятеро сердец, бьющихся в унисон, теряли свой ритм и сбивались. Когда из коллектива убывает один музыкант и его звук утихает, песня продолжает литься. Но она уже совсем не та, что звучала прежде… Это станет твоей новой мелодией на долгие годы, а старую уже никогда не вернешь. Как бы тебе ни хотелось… …Мы все боялись, цепенели от страха перед неизвестной болезнью, с которой все вместе столкнулись впервые. Но ответ на так и не заданный никем вслух вопрос был прост. Загадка состояла в том, что не было никакой загадки. То была не болезнь. Папа покидал нас. Принимал свою смерть спокойно, без борьбы и потому умирал медленно, почти безболезненно. Все так же шутил на смертном одре, как раньше, показывал Бетани маленькие красочные фокусы, фигурки и секреты, сотканные из магии, и неустанно утешал мать… …Безмолвная, в проеме, не отрывая руки от лица, стояла мама, отошедшая от него, чтобы выплакаться. Порою нервы ее сдавали, и она, не выдержав, ссылалась на принятую всеми как данность отговорку и выходила из комнаты, чтобы он не видел, как она плачет из-за него, уповая наивно, что он не слышит, не чувствует ее слез. Порой она пугала меня не на шутку. Мне чудилось, что она вот-вот лишится рассудка, так крепко она любила его. Целыми днями бродила вокруг него, когда он спал, словно призрак, и терпеливо ждала, пока он не проснется, подле его кровати. Удивлялась, когда мы говорили, что ему станет хуже, и точно лишенная памяти, не понимала причины, когда это действительно становилось так. Когда ее разум ненадолго прояснялся, до нее неожиданно ясно доходило, что он покидает ее, оставляет одну, обессиленную, потерянную и безнадежно пустую. …На какое-то время ощущение реальности покидало ее, и она вновь возвращалась в те времена, когда папа был здоров. Словно под гипнозом наполняла опустевшую чашку отваром и подносила к сухим восковым губам, не понимая, что делает и зачем. Но когда она вдруг вспоминала и вскрикивала, ужасаясь открывшейся правде, чувство сродни кошмару овладевало всеми нами с особою силой, точно мы все слышали это в первый раз. В нескольких шагах от меня, за дверью, умирал мой отец. И как бы они ни старались утешать друг друга, дарить друг другу призрачные несбыточные надежды и кормить ложью, это действительно происходило. Жизнь покидала его. Внезапно под тяжестью ведра я содрогнулся, почувствовав слабость, словно жизнь покинула на мгновение и меня. — Он… …Увиденное застало меня врасплох. Я помнил живого, полного сил человека с густой копной седых волос, добродушного, жизнерадостного, гостеприимного, обожавшего плавать, животных и звездное небо. Помнил человека, неуклюжего и шумного, громко заявляющего о своем пробуждении топотом босых ног по полу, веселым мурлыканьем знакомых мелодий. Помнил, как ему удавалось успокоить взбесившегося коня одним прикосновением и легко приручить дикую птицу. Помню, как старательно он притворялся здоровым и сдерживал кашель почти до удушья, если заболевал повторно, потому что боялся расстроить маму. Он до сих пор казался мне самым чудесным человеком на свете, и только сейчас я со скорбью осознавал это. Неугомонный Малкольм, всегда выкидывающий какие-то безумные штуки. За полгода жизни в Лотеринге умудрившийся расположить к себе всех его жителей без исключения шутками и добрым, отзывчивым сердцем. Тесно общаясь с простыми людьми, он ни разу не навел ни на себя, ни на свою семью никаких подозрений. Умело лгал во благо, когда речь заходила на избитые темы магии и Церкви, и никогда не терял самообладания. До слез трогали моменты, запечатленные в памяти, как он возвращался домой с ярмарок, нагруженный подарками, самыми разными и приятными, без намеков угадывая, что кому хотелось бы получить. Садился под ветряную мельницу в самый последний день утешника вечером и распевал с остальными фермерами во все горло «Дейн и оборотень», совершенно не стыдясь отсутствия ни ритма, ни слуха. И просиживал там вплоть до утра первого августа, приветствуя День Урожая шестой бочкой эля, но никогда не напивался до беспамятства, чем значительно облегчал жизнь матери, которая, в отличие от остальных лотерингских женщин, была лишена удовольствия тащить мужа домой на своем горбу и, кое-как ухитрившись уложить на диван, стаскивать с него сапоги. …Я знаю, ты уйдешь. Ты все равно собирался уйти. Увидишь в окне открытые дверцы парящего замка и поймешь: пора. Нет смысла тебя отговаривать, умолять остаться. Просто задержись на мгновение. Затаи дыхание, не отпускай выдох… Побудь со мной еще немного. Не спеши уходить. Ты со мной последние минуты. Позволь запомнить, как сверкают твои добрые глаза, когда ты улыбаешься мне… Тогда, в родном доме, под сенью изумрудного ясеня, листья которого ловили магию, скрывая от посторонних глаз, он ушел. Тихо, почти без борьбы, без споров и сожалений, убежденный, что мы сможем сами дальше идти, без него. Что нам больше не нужен наставник, советчик и защитник. Он ушел спокойно, обнимая нас взглядом, удерживая мамину руку, чтобы было не страшно на краю одному. В то мгновение я понял, что как бы он ни храбрился всегда, как бы ни старался казаться бесстрашным, он умел бояться. И боялся всего, когда мамы не было рядом… Не в состоянии говорить, он безмолвно просил нас повторять за него, шевеля лишь губами. Мама затихла, рыдая беззвучно, внутри, и подняла глаза, чтобы запомнить его, живого, таким спокойным и безмятежным. Впервые ночь его глаз была чиста, безоблачна, и тень волнения не омрачала его всегда добрый и всепрощающий взгляд… Призвав на помощь все оставшиеся силы, он напряг левую руку и оторвал от кровати. От резкой боли, пронзившей все тело вплоть до кончиков пальцев, его передернуло. При виде его перекошенного лица мать побледнела и, схватившись за дрожащую руку, стремившуюся к ней как к свету, прорывавшуюся через воздух, как через плотную паутину, взмолилась остановиться, не тратить силы напрасно. Но одним взглядом он остановил ее и с тяжелым выдохом улыбнулся слабо — едва дернулись пересохшие темные губы. Он словно просил ее молча: «Позволь мне. Мне нужно. Не лишай меня этого, мне недолго осталось…» Прикосновением холода, сжавшего сердце, он тронул ее лицо, так слабо, так нежно. Словно боялся, что задержись он надолго, приложись всей ладонью — и она узнает, как чувствуется смерть. «Ты сильная, любовь моя, мое драгоценное сердце. Единственное счастье, которое случилось со мной за всю мою ничтожную жизнь… Ты сможешь. Ты сможешь дальше сама. А вот я без тебя бы не смог…» «Знаешь, я ведь трус и обманщик. Я научил тебя верить, что ничего не боюсь. И никогда не признавался тебе, что каждую ночь, когда ты велела ложиться, а сама уходила к соседке помочь, я не мог заснуть без тебя. Дрожал под одеялом, как трусливый ребенок, и замирал до ледяной корки от каждого шороха. А заснув, просыпался с колотящимся сердцем от страха, потому что тебя не было рядом… Я начинал бояться всего, как только твоя рука отпускала меня…» «Ты обманщик. Ты выдумал мое мужество! Свое всегда выдавал за мое! Дело не в нем! Это не оправдание и не причина! Просто не уходи, не покидай нас, я…» Грудь, лихорадочно содрогнувшись, медленно опустилась. Рука отяжелела, словно уже не его, словно смерть, обвив своим холодом, прикоснулась к плечу и тянула к себе, за грань этого мира. Она заснула спокойно, зная, что нежные хрупкие ладони не отпустят ее, будут держать, пока сон не отступит… Призыв отозваться застыл в ее горле горячим комком, когда она, медленно-медленно подняв голову в мелькнувшей догадке, взглянула на него, ища на себе взгляд ясных карих глаз. Рука молчала, потому что больше не принадлежала ей. Он спустился с последний ступеньки на золотой лучик и ушел тропинкою света, исчезая в поднебесной дали… Оглянулся на прощанье. И улыбнулся. Так искренне, чисто и нежно, как никогда раньше не делал… Наконец его душа спокойна. Слишком долго. Назойливая тишина черными крыльями билась о небо и стены, пытаясь достучаться до отгородившегося сознания. Детская вера в чудо, которое уже не произойдет. Бетани, не в силах смотреть, прижалась ко мне, тихо рыдая, точно потерявшийся котенок. Мы знали, все трое, того, чего не знала мама. Мы видели, как он, почувствовав, что пора, на последнем издыхании заговорщецки улыбнулся нам, заклиная не выдавать, точно проказник, и, услышав свое имя где-то на краю горизонта под полыхающим солнцем, беззвучно нашептал последнюю волю своей старшей дочери, и, впервые за последние тяжелые дни вздохнув спокойно, уснул наконец сладким и бархатным сном. …Через год над могилой раскинула тонкие ветви плодородная вишня. Мама любила вишню, с ума сходила от плотных рубиновых ягод. И она прекрасно знала, что ни одно семечко не падало позади их дома и не прорастало рядом с маленьким отцовским убежищем. Иногда она слышала, как он зовет ее. Слышала улыбку в его голосе. Слышала через шелест вишневой листвы в замирающем мире — так в тишине звучало его волшебство… Только сейчас, когда все кончено, понимаешь, что все без исключения, оказывается, смертны, и тебе придется жить с этим. Начинаешь стаскивать с грязных полок пыльные книги и перелистывать желтые страницы воспоминаний. Корявый подчерк, следы от слез и страницы, заполняющиеся сами собой, останавливаются на этом моменте сокрушительным троеточием, коротким до слез… Где-то внизу, на полях, маленькими буквами вырисовывается знакомым почерком одна короткая фраза: «Я горжусь тобой». И совесть давит, душит слезами. Ты так и не извинился за то, что украл его любимый нож с золотыми рунами на рукоятке, а он все равно гордится тобой. В истерике сломал его деревянный посох, а он не сказал ни слова в упрек. Лишь молча смотрел на тебя добрым всепрощающим взглядом… Быть может, это просто моя иллюзия, выдумка или память, рисующая его возможную реакцию на мои сожаления, но я совершенно ясно ощущаю, как на душе становится легче… Он всегда так делал. Клал руку мне на плечо в попытке ободрить, поддержать или успокоить и забирал все мои тревоги мягким прикосновением к себе. Ему для того не нужна была никакая магия… только искренняя отцовская любовь и понимание. Говорят, конец — этот всего лишь тот момент, где ты остановил повествование. История может длиться вечно, пока продолжается жизнь. Почему невозможно просто взять и принять эту философскую лабуду? Почему нельзя сразу научиться относиться ко всему разумно, с пеленок смириться с тем, что утрата — неизбежная часть жизни любого, у кого что-то есть? Переворачивая страницу, обнаруживаешь чистые, еще неисписанные листы. Только номер главы и название, смазанное, стертое, неразборчивое. Чистота этих страниц жжет и режет глаза… Исписал бы все страницы, все книги твоим именем, если бы знал, что так ты будешь ближе… Ничего никогда не желал так сильно, как крохотный шанс, возможность все исправить, вернуться в то далекое время и извиниться за тот деревянный посох, который сломал, солгав, что случайно… Мгновение в другой жизни, где я чувствую его живое тепло на моем плече, и он весело улыбается мне одними глазами, заверяя, что все это пустяки, мелочи жизни, и они не стоят моих тревог… А где-то на кухне раздается мамин звонкий голос, зовущий нас к ужину, и мы все впятером бежим занимать свои любимые места за кухонным столом, чтобы урвать себе кусок пирога со сладким картофелем побольше… Соль царапает и холодит кожу, но я, улыбаясь сквозь слезы, отчетливо вижу через мутную пелену, как тяжело он садится, в шутку повторяя, что старость — не радость, ближе к печи, чтоб греть спину, а Бетани, заливаясь счастливым смехом, усаживается к нему на колени, и завершает картину семейного ужина явившаяся, как всегда, последней вечно задумчивая Скай, облюбовавшая стул, близкий к выходу… Белый цвет пуст и мрачен, от них нестерпимо разит гнетом. Черный — цвет ночи и траура, а белый — цвет безысходности, цвет ухода, смешанный с сыростью того утра, когда он ушел… А ты продолжаешь вслушиваться в болезненные толчки своего ослабевшего сердца, заполняя внутреннюю пустоту белым цветом обреченности, и не сразу понимаешь, как чернила сами по себе начинают расползаться по листу, повторяя, как заведенные, строчку за строчкой одну и ту же фразу — одну единственную мысль, застывшую в твоей голове: «Эта глава без него. Его в ней уже не будет…»
Словно пережитого уже оказалось недостаточно. Словно подавить, сломать и уничтожить, пресечь любую возможность вернуться к прежней жизни было самым малым из того, что нам обещали. Казалось тогда, что самое худшее мы уже познали, и страшно больше не будет. «Я тоже», — подумал я и внутренне содрогнулся, представив себе долгие годы жизни без Бетани. Завтрашний день без Бетани. Все следующие «завтра» без Бетани. Скитаться по морю в поисках убежища, зная, что Бетани оно уже не нужно… И как-то жить дальше. Без дома. Без Бетани. Секундного замешательства было достаточно, чтобы по жестокой иронии застыть и прийти в себя тогда, когда стало уже слишком поздно. Будто сама судьба, рассыпав на сердце соль и песок, выдыхая едкий дым и пепел, до слез невозмутимо и сухо твердила, что кто-то должен остаться здесь, дома, с папой. Кто-то должен уйти. Кто-то должен остаться дома. Боль пережитых потерь кусала меня и драла, разрывала на части, а я позволял ей, ничего не в силах исправить. Стало чуть легче дышать, когда храмовник прочитал молитву, позволив ее душе спокойно предстать пред Создателем, словно неуловимая прохлада ее прикосновения осушила удушливые слезы, и она подняла мое лицо мягко, чтобы наши взгляды встретились, и призналась мне честно, как раньше, делясь самыми сокровенными тайнами и снами: «Я в порядке, братишка. Мне больше не больно…» Чудовище одной огромной лапой оторвало ее от земли, и, почувствовав, как все внутренности стянуло в тугой узел, я закричал. Боль была в сотни раз сильнее, чем при Остагаре. Хотелось поскорее броситься к ней и добудиться. Влить дрожащими от страха перед неизбежным руками все пузырьки с целебным раствором ей в рот, которые только у нас имелись, чтобы она вновь открыла глаза. Словно внезапно оборвавшийся сон, надежда разлетелась на тысячи мелких осколков, не устояв перед вторжением жестокой, невообразимой, несуразной реальности, принявшей облик вырвавшейся из лап всеобщего оцепенения Бетани с прекрасным, необыкновенно чистым и светлым лицом, омраченным в эту секунду тенью неотвратимого… Только не до конца.
Карвер Само это слово, положение, имя, закрепленное за мной, никак не могло слететь с языка по отношению к самому себе, так оно звучало оскорбительно и унизительно. Страх как натянутые до предела струны обнажившихся нервов… Стыли сердца под лохмотьями старой одежды. Мешки и кармашки, каждый наполнен до краев тем, что удалось ухватить. Они были похожи на побитых собак, выгнанных из дому. И я ничем не отличался от них… Даже хуже, наверное. Мы смотрели друг другу в глаза. Мы смотрели на людей, которые тысячу раз за этот день успели погибнуть… …Эта золотая земля, впитывающая в себя солнечное тепло, была вечной. Она бережно хранила в себе кости и память моего отца так же, как и должна была бы в свое время хранить и мои. Земля моих предков, окропленная их теплой кровью, говорящая с ветром их голосами. Эта земля была как нежное лицо матери, всегда светлое, всегда улыбчивое, мягкое, родное… Вновь ворчливо скрипнуло старое дерево. Прояснение приносит гораздо больше боли, чем помутнение рассудка. Мне становится болезненно ясно, что это действительно правда. Мы убегаем, как трусы, в надежде найти спасение. Все равно что переждать грозу где-то под навесом чужой крыши. Холодные пальцы действительности сдавили мне горло. Это все правда. Реальность происходящего не укладывалась в голове. Это было чем угодно, но не могло происходить наяву. Со мной. С нами. Берег был усыпан алыми листьями веретенки. Мне вспомнились душистые букеты на зубьях забора, и перед туманным взором потускнела ее живая листва, когда отец отпустил свой последний вдох. Когда внутри все затихло, я почувствовал жгучее изнеможение. На смену злости, глухой, раскаленной, пришла усталость. Настоящая усталость, которую ощущает опустошенный человек, вынужденный отпустить, выдрать из сердца и отпустить что-то такое, за что не жаль было самому, без принуждений, склонить голову на жертвенном алтаре войны и окропить своей кровью священные руны защиты, призванные спасти то, что осталось, веря, что все будет не напрасно. Догорали первые пожары. Безудержно и безмолвно. Дым жалил кожу подобно рою пчел. Пахло безысходностью и родной землей, несмотря на то, что мы пересекли половину Ферелдена. Слева веяло холодом. Ее лицо, прежде излучавшее какое-то мирное спокойствие, что, посмотрев на него, можно было увидеть водную гладь, прохладную и невозмутимую в преддверии нового хорошего дня, и ее ровная мимика, всегда плавно переходящая от одной эмоции к другой, словно сломалась. Ее лицо застыло, как зимний пруд подо льдом, как гнилые стоячие воды в болоте. Постепенно оно окаменело. Вода высохла, остался лишь неуловимый след жизни, память на сухой морщинистой земле, безжизненной и бесполезной… Каким-то образом она поняла, что дальше идти не сможет. …Ветер бросил на дно поводья от морских волн, и воды вздыбились, отпущенные на волю и предоставленные самим себе, сбивая корабль с пути, поднимая, как щепку, и бросая его, замершего в ужасающем ожидании скорой погибели в морской пучине. Алое солнце вспыхнуло… и исчезло. В то же мгновение на землю опустились мрачные тени, готовые обгладывать каждую косточку суши под покровом ночи. Мысль о том, что ничего уже нельзя предпринять, чтобы вновь позолотел горизонт, причиняла поистине самую страшную физическую боль… На мгновение мне показалось, что я увидел в этой вспышке лотерингскую улыбку. Улыбку, которая будет жить вечно в моей памяти. И в моем сердце. Повинуясь какому-то странному внутреннему рвению, я приподнял руки к своей земле. И поймал последние лучи ладонями, как бабочку, как падающую звезду, которая несла на себе мое имя… Словно у художника, писавшего жизнь, кончились теплые краски, и чаша морская наполнилась тенью тревог, беспросветным мраком… Цвет жизни, золото ферелденской земли, померкло, и горизонт обесцветился. Облизывать змеиными языками животной похоти в страсти смертельной его осталась изуродованная бездушием бунтарка-вода… Вспышка, и то, во что я так напряженно впивался взглядом, пытаясь мысленно вытянуть из-под воды, растаяло. Все похолодело внутри. Дыхание сбилось, когда земля Ферелдена растворилась за линией горизонта. Все это походило на какой-то кошмарный сон, бред сумасшедшего, чью-то жестокую шутку! Я точно застрял в чьем-то жутком извращенном воображении и, беспомощный и обессиленный, не знал, как выбраться. …Волны хлестнули корабль так, что нас здорово качнуло, и старое дерево ворчливо закряхтело, покорно бросаясь на волны. Ветер запел не своим голосом, взбираясь все выше по нотам едва различимой пока что, пугающей песни о неизвестности… Отредактировано: Alzhbeta.
| |
| Предыдущая глава | Следующая глава |
|
| |
Материалы по теме
|
|
|
| |
| Понравилось! |
| Всего комментариев: 0 | |
 Войти
Войти